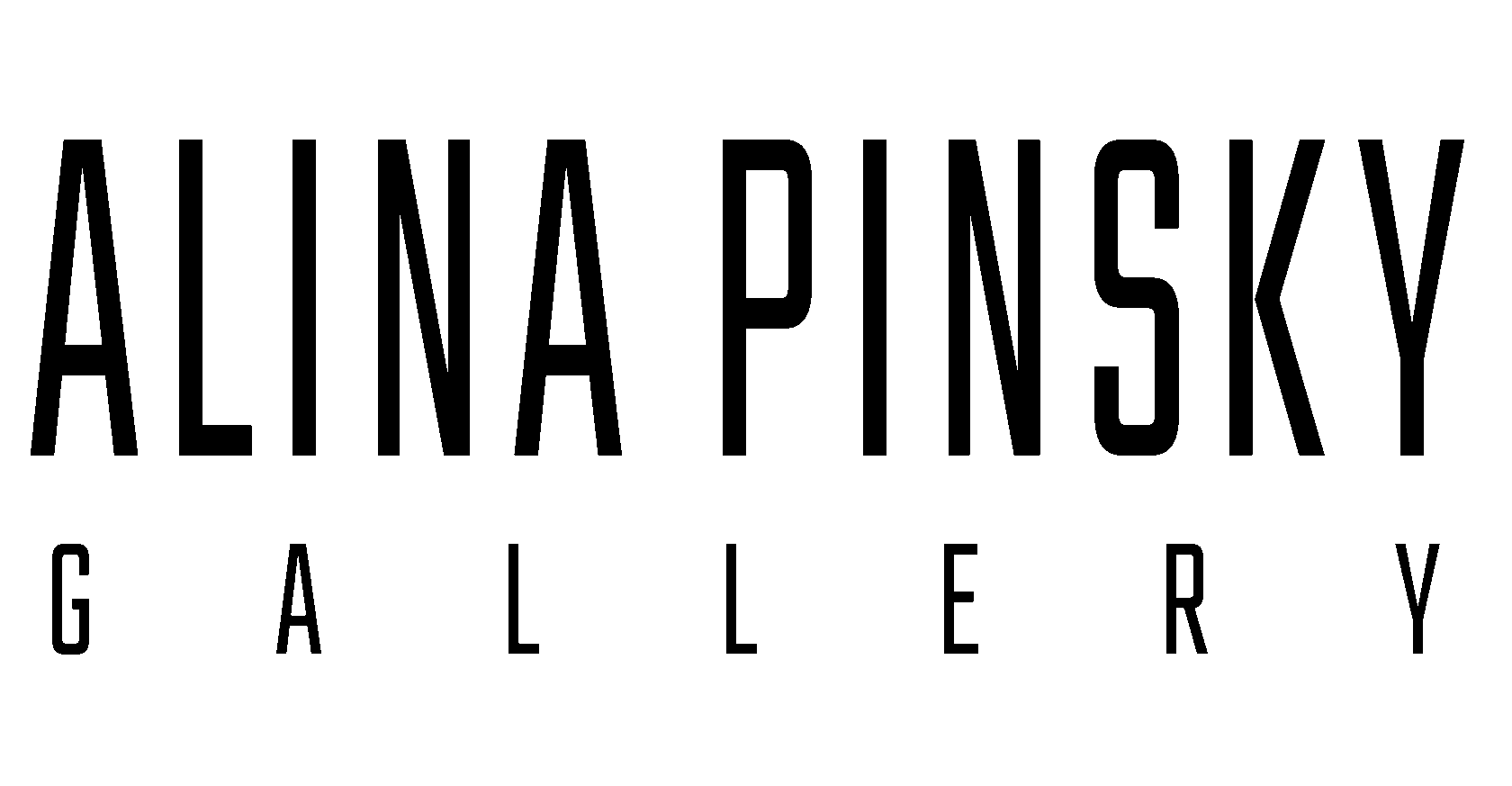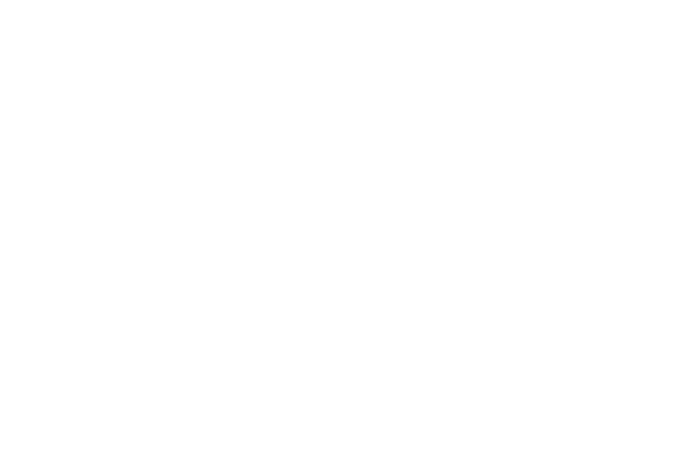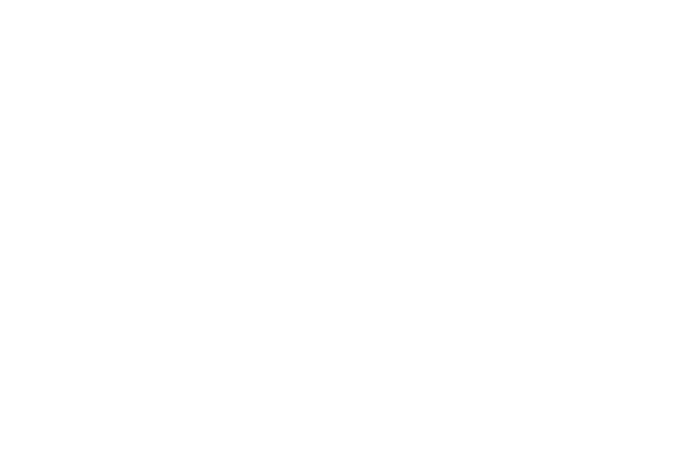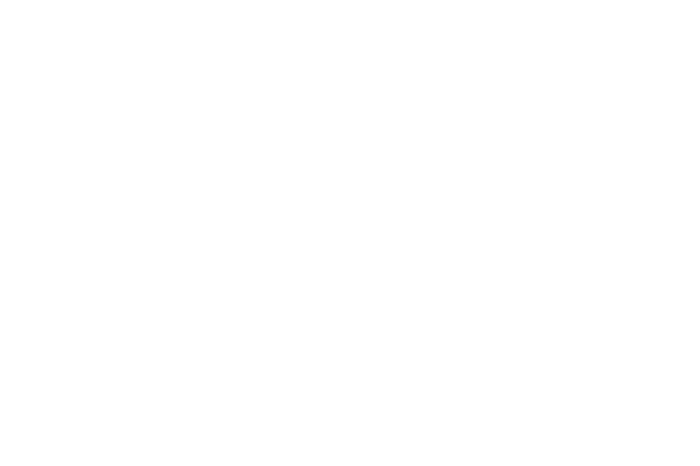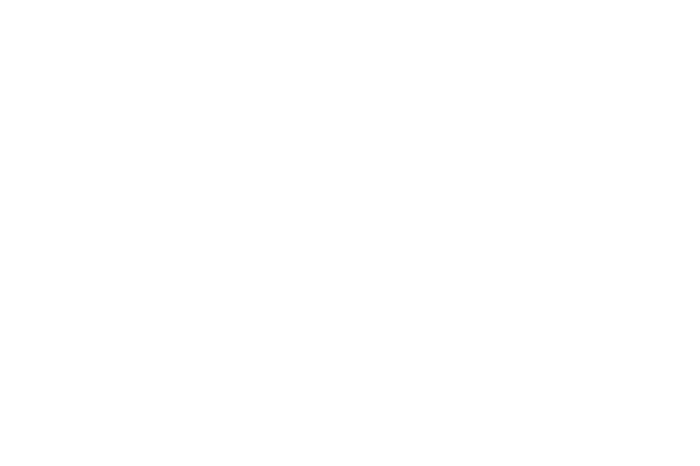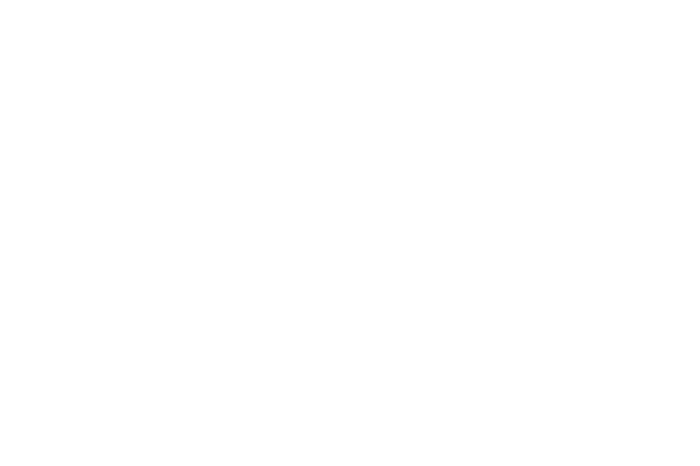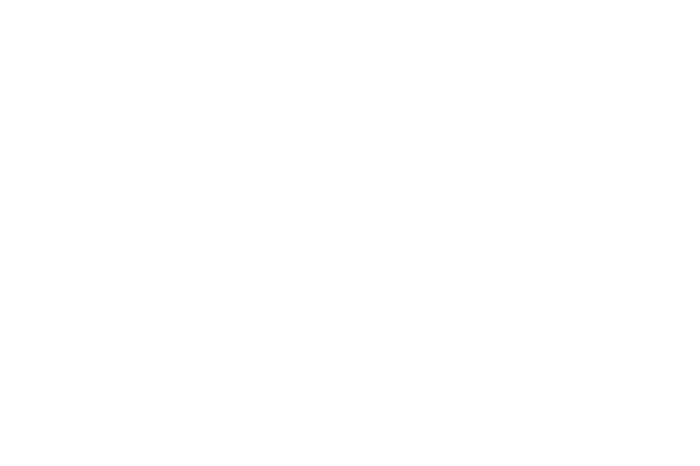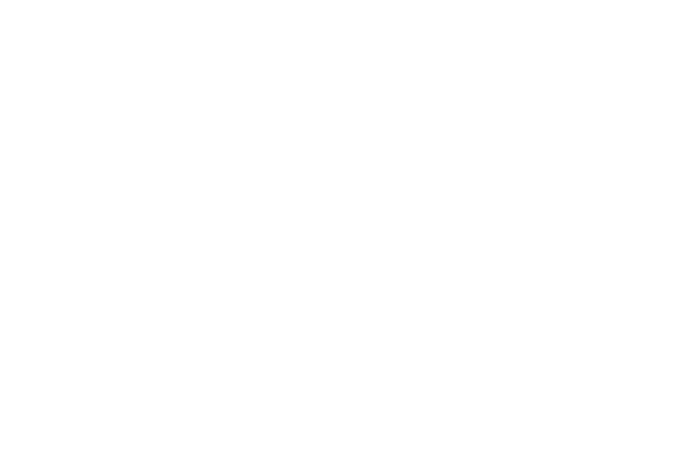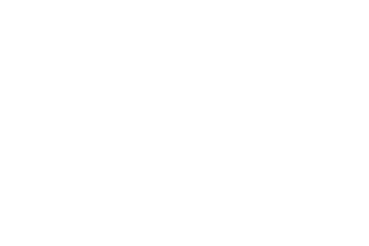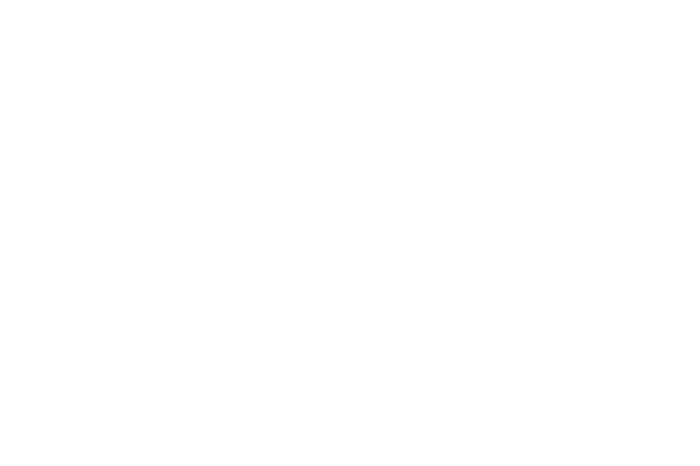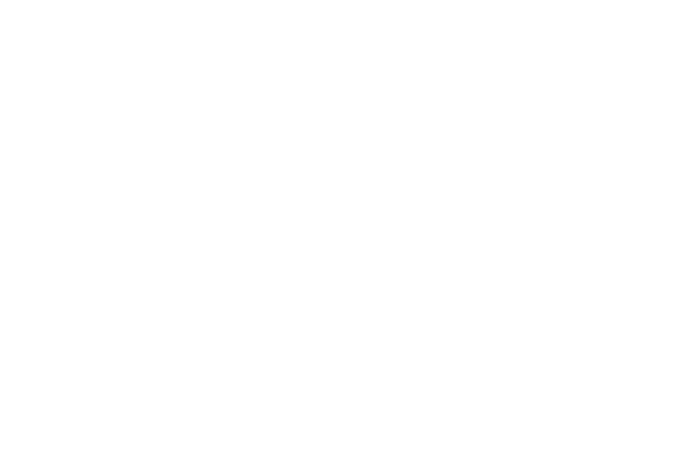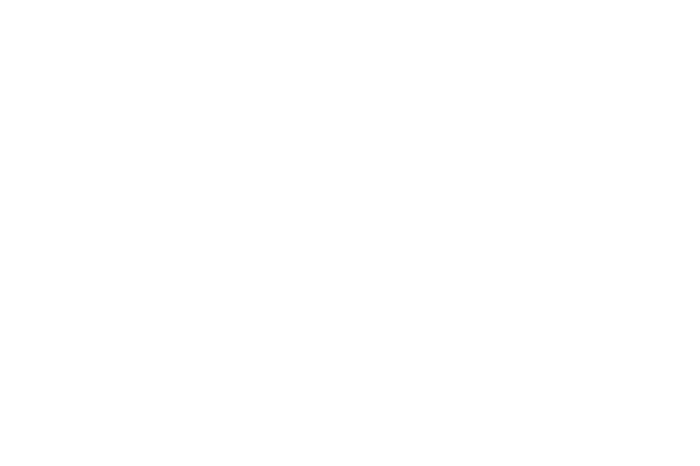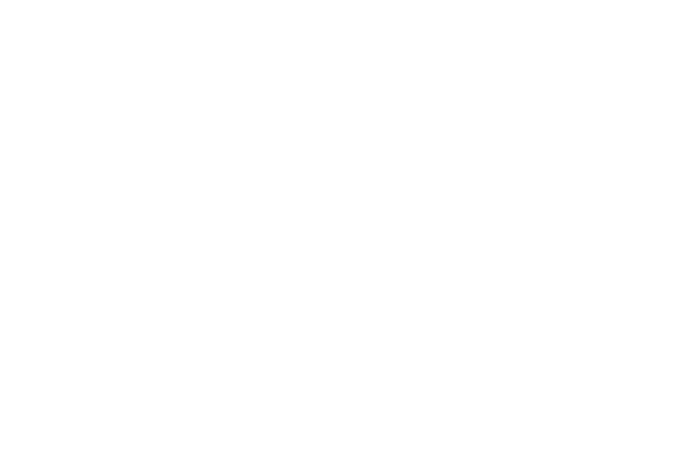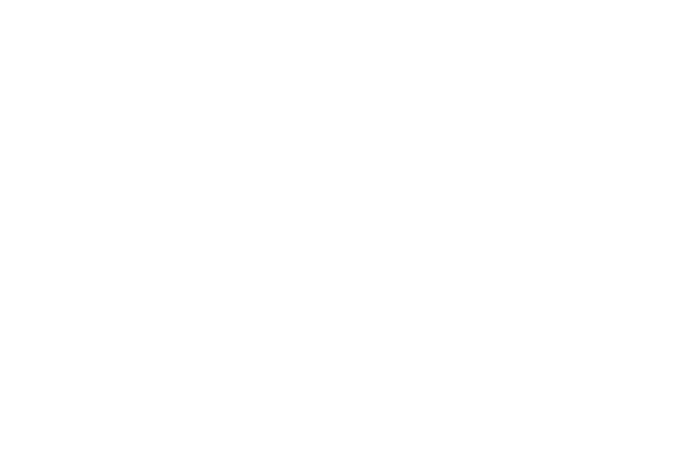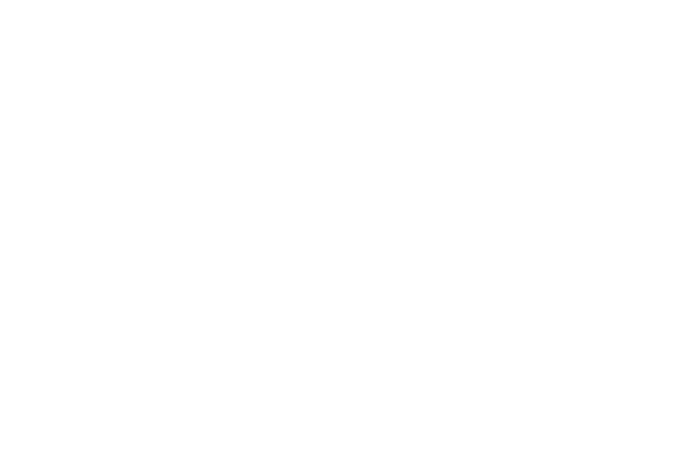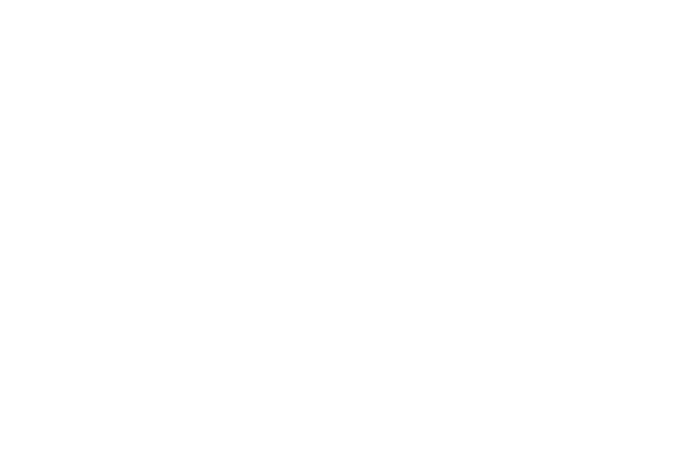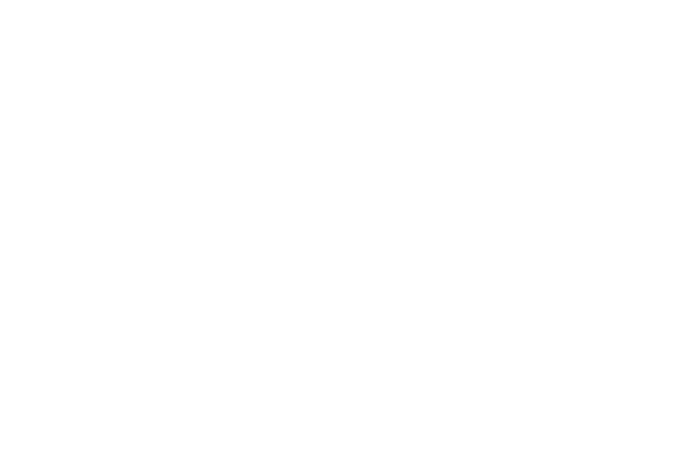Персональная выставка Евгения Музалевского, объединившая более 30 живописных и графических работ немецкого периода художника.

Художники























Коллекция

14 мая 2023 г.
Телеграм-чат по поводу предстоящей выставки Евгения Музалевского
в Alina Pinsky Gallery (Москва)
Участники: Евгений Музалевский (гостит у бабушки в Самарской области), Сергей
Братков (Ютербог, Германия), Леонид Цхэ (Ютербог), Андрей Шабанов (Берлин)
С. Б.: Ты что, Женя, где-то в подвале гестапо? Почему свет такой мрачный? Тебя уже подстригли налысо… (Смеются.)
Е. М.: Сергей, понимаешь, у меня такая бабушка, что если чего-то не сделаешь, спуску не будет. Поэтому пришлось идти бриться. Но я вас хорошо слышу.
С. Б.: Ну естественно, мы же в Германии, здесь интернет и все такое. Женя позвал нас поговорить о его творчестве. Давайте начнем так. Вот со мной рядом сидит Леня, в творчестве которого есть главный герой.
А. Ш.: Да, он сам.
С. Б.: Да, он сам, конечно. Или его прекрасная дочь, например. Есть ли главный герой у Жени? Согласитесь, что и у него он есть — сам Женя. Только Женя, полагаю, маскируется. Если Леня узнаваем, потому что у него академические традиции, то этот хитрый змей, лысый, прячется под вымышленным персонажем, который… в общем-то, головастик. (Смеются.) Это ярко выраженная голова, у которой где-то есть хвост. Хлеб всему голова, а тут еще одна голова. Может быть, это и хорошо, что Женя конкретно не узнаваем, получается такое приключение, похождения головастика… Или я говорю что-то не то? В чем Женина узнаваемость?
Л. Ц.: В его ярком изобразительном языке. Думаю, у него всегда будет индивидуальный почерк.
С. Б.: Мы про качества еще поговорим. Давай сейчас вернемся к герою.
Е. М.: Хорошо, я тоже хочу вступить в дискуссию. Для меня это всегда был интересный вопрос: чем я занимаюсь? Действительно, если взять поколение Сергея или даже старше, Базелица например, то искусство многих художников этого поколения базируется на героях, персонажах. Я четко решил для себя, что мне не хочется и не интересно с этим работать, искать некоего героя, персонажа. Для меня, как Леня правильно сказал, важно развивать собственный язык. А что касается узнаваемого головастика, то это обращение к автопортрету, который я тем или иным способом расщепляю. В своих работах я стараюсь апеллировать к тому, что происходит со мной, и к образности как таковой. Меня интересуют образы и различные их трансформации. И эти образы могут быть извлечены разными инструментами.
А. Ш.: Сергей, вы не заснули там? (Смеются.)
С. Б.: Нет, мы не заснули. Женя, ну речь, конечно, идет не о каком-то социальном герое, а о герое-человеке. Все равно, условно говоря, через эту голову — с хвостиком или ножками — проговаривается вся твоя история: твое отношение к бабушке, твое отношение к маме. Ты в любом случае пишешь собственную историю.
Е. М.: Да, но она не сужается до моего личного бэкграунда…
С. Б.: Понятно, что она широкая. Ведь ты мыслишь себя, скажем, королем, у тебя может быть корона. Ты можешь еще кем-то себя мыслить. Но в центре твоего творчества стоишь ты сам. Это очень эгоцентричное творчество. И ты признайся, пожалуйста, а не увиливай. (Смеются.)
А. Ш.: Это довольно распространенная вещь…
С. Б.: Да, абсолютно. Это не приговор, а дружеский разговор. (Смеются.)
Е. М.: Понятно, что каждый художник так или иначе пытается себя изобразить и ищет этот определенный способ. Но мое творчество не только про то, что я примеряю на себя различные платья. Для меня оно — нечто большее.
С. Б.: Это мы знаем, Женя. Если бы ты примерял только их, то это был бы карнавал. Договорившись о герое, давай теперь порассуждаем о пространстве в твоих работах. Сам по себе белый холст, если он еще и на подрамнике, — это уже пространство. Абстракционисты при помощи мазков, цвета создают свои пространства. У художников, связанных с каким-то героем, историей, есть пространство, в котором существует этот герой. Как у Лени, например. Пространством в его работах часто бывает комната; или оно ограничено кустом, неким архитектурным элементом. В какое пространство ты сам себя помещаешь? Какое пространство наиболее адекватно твоему герою, тебе?
Е. М.: Обычно это — пространство в широком смысле: пространство пещер, различных миниатюр, моделей вселенных, кладбищенских памятников, построек. В последнее время им стали клетки, тюрьмы, темницы.
С. Б.: Женя, здесь стоит провести разграничение между пространством и средой. Могилы — это среда. Но если ближе к живописи, клетка — это уже более структурная вещь, которая живописно решается. Как строится твое пространство? В какой графической или пластическо-изобразительной структуре живет твой герой?
Е. М.: В ранних картинах, например, фигуры часто даны в узнаваемых позах: они либо стоят, либо сидят. Все остальное очень подвижно, постоянно меняется.
С. Б.: То есть глобально ты не нацелен на клаустрофобию, как у Бэкона, на замкнутое пространство.
Е. М.: Да, и на мое меняющееся понимание пространства влияют новые технические средства, холсты, среда, то, как и чем я пишу картину, или мои последние увлечения: старые гравюры, печатные техники, репродукции.
С. Б.: Еще вопрос: как повлияло 24 февраля 2022 года на твое пространство, на тебя? Твои недавние работы с клетками, например, были сделаны после этой даты…
Е. М.: Когда все это случилось, я не находил себе места. На тот момент у меня была затянувшаяся депрессия, а в связи с этими событиями я оказался совсем в каком-то клаустрофобическом кошмаре. Было настолько страшно, что я даже боялся кому-либо позвонить. Я жил тогда в маленькой комнате в общаге. Не мог спать примерно месяц. Чтобы отвлечься, постоянно читал. Мне было сложно рефлексировать настоящее, поэтому я стал копаться в прошлом, в 1920–1940-х годах. Много читал про обэриутов. Думая про сегодняшний день, я размышлял над тем, что такое тюрьма. Это такое же проблемное понятие для меня, как и архив. Думая про тюрьму, я занимался
конструированием архива. Смотря на архитектуру, например, «Крестов», фотографии культурных деятелей того времени, читая их биографии и поэзию, я попытался упаковать все это в некую галерею, в жестко структурированное пространство, которое напоминает заточение и какой-то архив.
А. Ш.: Ты сейчас говоришь про «Дураки»? На мой взгляд, самое удачное и созвучное времени произведение. Надеюсь, оно будет частью выставки.
Е. М.: Да, мы договорились включить его.
С. Б.: Вопрос о графике. Что она для тебя означает? Иногда графика — это растерянность: что-то чиркаешь, думая о большой форме. Или растерянность как способ собраться. А бывает, что графика — это такая эквилибристика по заполнению листа. Спрашиваю, поскольку ты все-таки больше живописец. И пробовал ли ты
когда-нибудь сделать графическое произведение уже с написанной картины?
Е. М.: Для меня графика самодостаточна, самобытна. Это с одной стороны. Я никогда не использую ее как подготовительный рисунок. С другой стороны, я веду дневники, постоянно что-то рисую в них, графически выражаю свои мысли, сбрасываю сюда образы. И вообще, графика позволяет мне спрятаться. Мне очень тяжело бывает, если я, например, забыл взять дневник с собой. Графикой часто занимались художники-аутсайдеры, которые никогда не выходили в поле больших картин, но постоянно делали небольшие почеркушки на линолеуме, мелких клочках бумаги. В каком-то таком же ключе дневниковая графика помогает мне жить. В недавних
акварельных работах, в которых я стал целиком заполнять, прорабатывать фон, графика оказалась для меня еще и сродни алхимическому процессу создания и созерцания драгоценностей. Когда я рассматривал эти листы в своей маленькой комнате, они меня как-то стабилизировали, излучая некое…
Л. Ц.: …внутреннее свечение, будто это оникс. Ты заливал всё акварелью, слоями, прозрачно, на довольно больших листах. До этого ты конструировал их более аналитически, геометрически. Ты говоришь про алхимию в акварелях… Соль, сахар, например, дают определенные, своеобразные эффекты.
Е. М.: Да, я стал это делать уже после переезда в Германию. Наконец, большие вещи, которые я создавал на трехметровых листах, найденных на помойке, — это был также способ выйти в живопись и пространство.
А. Ш.: А в чем основа Жени? Думаю, в графике. То есть, на мой взгляд, все самые удачные, убедительные вещи Жени в живописи на данный момент обусловлены его графическим бэкграундом.
С. Б.: Сложно сказать. Полагаю, что в живописи. Она у Жени плоскостная, но да, пространство обычно решено посредством графических способов. Что думаешь, Леня?
Л. Ц.: Женя стремится к живописи. Живописное пространство гораздо сложнее одолеть. Графическое пространство условно, здесь довольно ограниченный набор средств. Женя хочет овладеть живописным пространством, в котором действуют свои законы, живописными средствами.
С. Б.: Ну, думаю, ему туда лучше не лезть.
Л. Ц.: Почему?
С. Б.: Он перестанет быть Женей. У него что хорошо — у него есть дерзость, которая его выручает. А если Женя пойдет в эту глубину, он, по-моему, утратит дерзость. Когда ты залезаешь в глубину, это уже не быстрое письмо, там много слоев. У тебя, Леня, быстрое письмо. А у Жени сверхбыстрое письмо, которое и дает это ощущение
дерзости. Она в его герое, в его историях. Но это мое восприятие творчества Жени, которое дерзкое, быстрое и где-то точное в цвете. Вот если Леня — вдумчивый, то Женя — темпераментный, изменчивый, спонтанный. Вообще, важно, что образ и темперамент Жени адекватны тому, что он делает.
Л. Ц.: Да, дерзость — это росчерк единомоментного какого-то переживания, которое можно зафиксировать только на плоской поверхности за один раз. Глубина дает определенное чувство времени.
А. Ш.: А куда Женя мог бы еще пойти? В скульптуру?
С. Б.: Да, не стоит ограничиваться полутора медиумами: графикой и живописью. У Жени получается скульптура, он мог бы делать видео. В дипломной работе у него тогда вышел такой дерзкий Кальдер. Я вот все время говорю тебе, Женя: «Где скульптура, где скульптура?» А он мне: «Немецкий, немецкий». (Смеются.)
А. Ш.: У Жени относительно недавно, года полтора назад, прошла выставка в той же галерее. На ней, по-моему, была достигнута хорошая критическая масса новых и любопытных «немецких» работ. Нужно ли уж так спешить с новой выставкой?
С. Б.: Есть традиционный ход, когда художник работает над серией произведений, которая завершается выставкой. Но бывает и так, что ты форсируешь выставку. В том смысле, что показывание подвержено времени. О том, о чем ты думаешь, параллельно думают другие люди, которые могут высказаться раньше тебя. Это профессиональное форсирование, но и человеческое. Поскольку актуальность того, что ты делаешь, зыбка.
А. Ш.: Да, работу «Дураки» было бы правильно сейчас показать. Женя, скажи пару слов про выставку. Сложилась ли уже какая-то концепция экспозиции? На чем ты будешь настаивать?
Е. М.: Я думаю, это будет некий танец цветных работ вокруг черно-белой, находящейся в центре.
С. Б.: Я вот что еще хочу спросить. Каково твое отношение к картине в качестве вещи?
Е. М.: Я, например, обычно не пишу картины на подрамниках. Это меня освобождает от преднамеренной упаковки, которая как раз и составляет ощущение вещи…
С. Б.: В последнее время ты стал уделять больше внимания холсту и краске. Почему?
Е. М.: Краски, которые я покупаю в Германии, отличаются от красок, что были мне доступны в России. Немецкие краски напоминают мне женскую губную помаду; когда ты начинаешь их растворять в терпентине, они, как помада, растекаются по поверхностям…
С. Б.: Понимаешь, тут, с одной стороны, притягательность помады, а с другой — наша прирожденная территориальная бедность, да? Так или иначе, сама картина, сама ее форма, говорит о прекрасном. А вот эта доля отвратительного, которая присутствует в искусстве, бывает выражена в плохой краске, в жирных пятнах, в каких-то таких вещах. В этом балансе между национальной принадлежностью, тут уж никуда не деться, качеством, трешем и прекрасностью самой формы картины — здесь заключена определенная значимость. Понимаешь, это нерв современности, в которой много треша. Мы затронули тему картины как вещи, когда есть такая готовая вещь, оформленная, натянутая, которой обывателю хочется обладать. Если мы художники,
нацеленные на свое великое будущее, на музей, то мы не должны поддаваться вот этому распространенному чувству обладания вещественностью картины. В картине должна быть некая рана. Сегодня из-за всей этой массовости, войны кругом, шрамы становятся знаком прожитой жизни, знаком времени.
Расшифровка и редактирование текста: Андрей Шабанов
Искусствовед, куратор, основательница Alina Pinsky Gallery
Движение галереи отражает мое развитие и видение процесса. Осознание того, к чему я хочу прийти, сформировал недолгий опыт работы в западных институциях, где галерейная среда более зрелая и централизованная. Сейчас с каждым шагом, с каждым годом я приближаюсь к этому идеальному видению галереи.
Я люблю прочувствовать настоящее искусство. Это трудно выразить словами: как недавно в одной беседе выразилась художница Мария Серебрякова: «Искусство — это всегда про нечто такое эдакое, что сложно описать». Как только я чувствую присутствие чего-то настоящего, у меня внутри срабатывает сигнал. Но этот сигнал не берется из ниоткуда. Он основан на определенных профессиональных вещах.
Фото: Евгений Шишкин
Искусствовед, куратор, основательница Alina Pinsky Gallery
Движение галереи отражает мое развитие и видение процесса. Осознание того, к чему я хочу прийти, сформировал недолгий опыт работы в западных институциях, где галерейная среда более зрелая и централизованная. Сейчас с каждым шагом, с каждым годом я приближаюсь к этому идеальному видению галереи.
Я люблю прочувствовать настоящее искусство. Это трудно выразить словами: как недавно в одной беседе выразилась художница Мария Серебрякова: «Искусство — это всегда про нечто такое эдакое, что сложно описать». Как только я чувствую присутствие чего-то настоящего, у меня внутри срабатывает сигнал. Но этот сигнал не берется из ниоткуда. Он основан на определенных профессиональных вещах.
Фото: Евгений Шишкин
Искусствовед, куратор, основательница Alina Pinsky Gallery
Движение галереи отражает мое развитие и видение процесса. Осознание того, к чему я хочу прийти, сформировал недолгий опыт работы в западных институциях, где галерейная среда более зрелая и централизованная. Сейчас с каждым шагом, с каждым годом я приближаюсь к этому идеальному видению галереи.
Я люблю прочувствовать настоящее искусство. Это трудно выразить словами: как недавно в одной беседе выразилась художница Мария Серебрякова: «Искусство — это всегда про нечто такое эдакое, что сложно описать». Как только я чувствую присутствие чего-то настоящего, у меня внутри срабатывает сигнал. Но этот сигнал не берется из ниоткуда. Он основан на определенных профессиональных вещах.
Фото: Евгений Шишкин
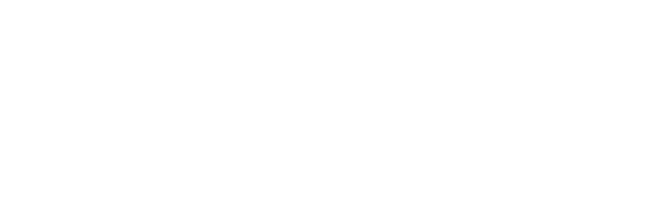
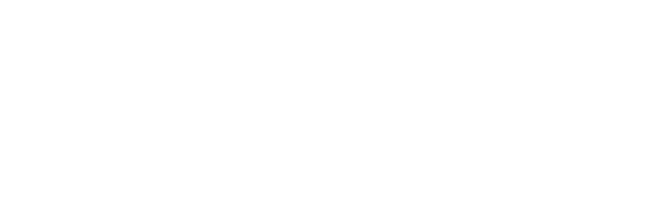
.
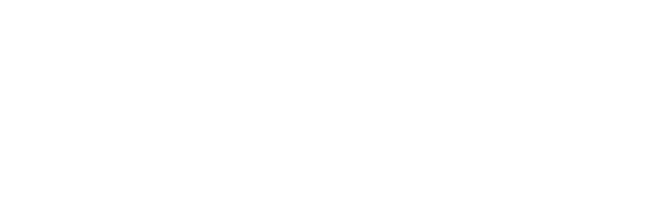
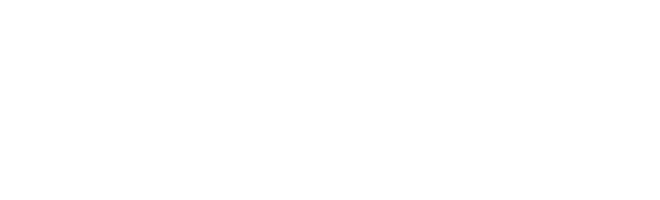
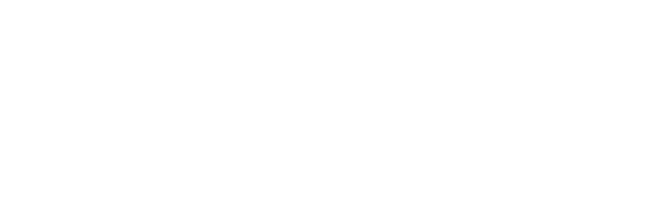
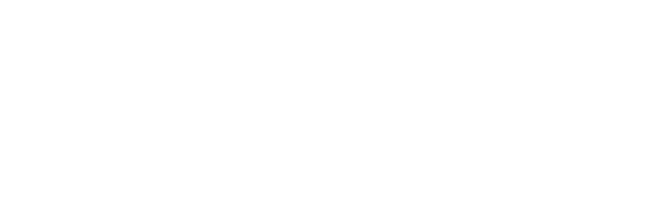
.
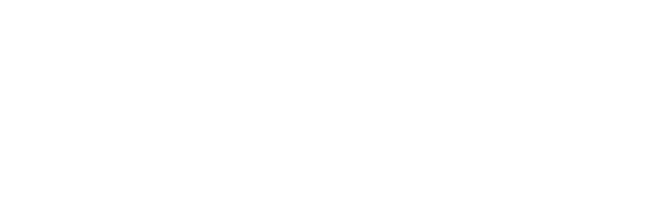
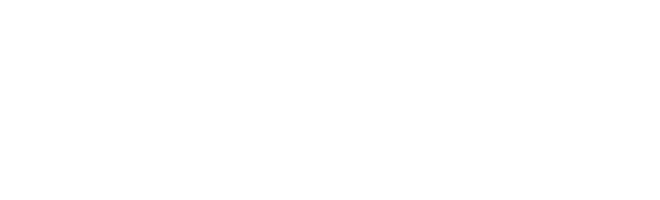
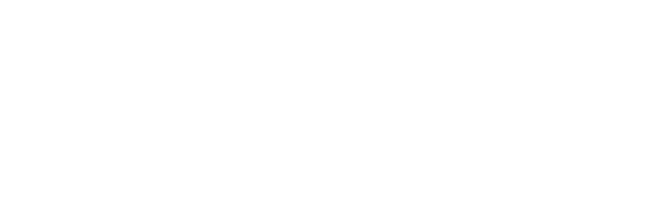
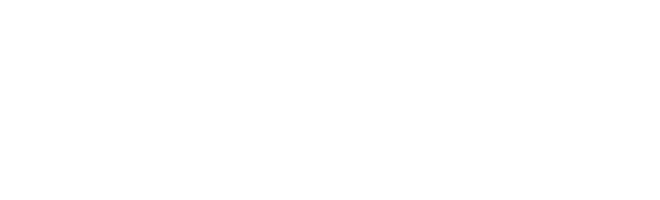
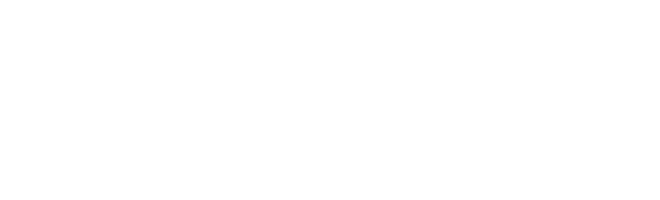
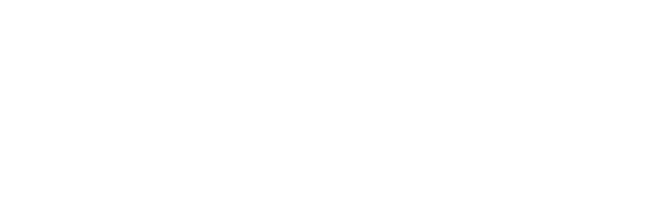
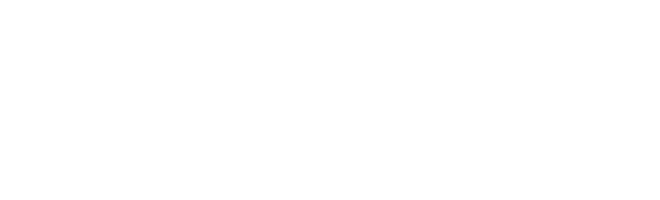
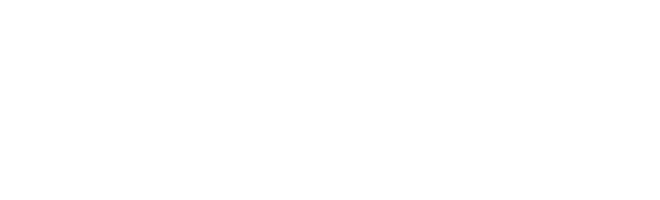
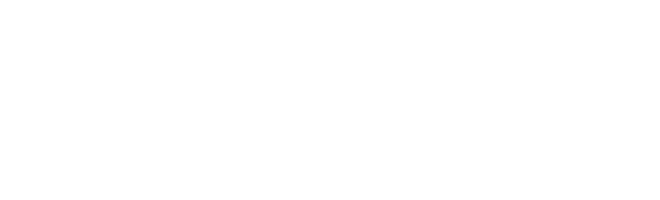
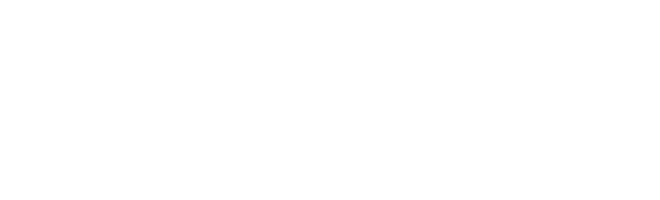
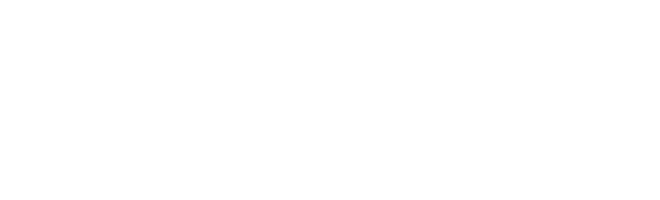
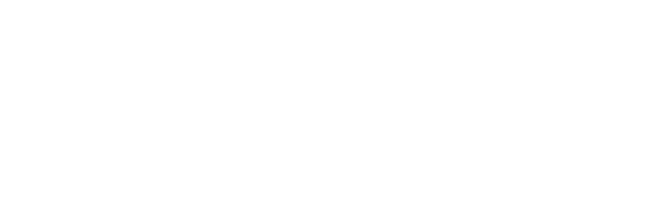
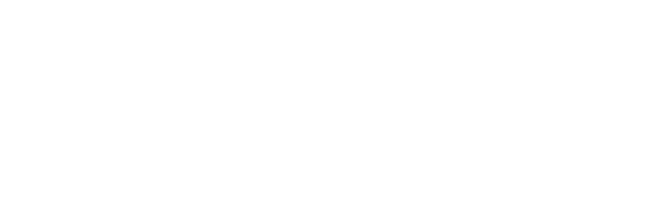
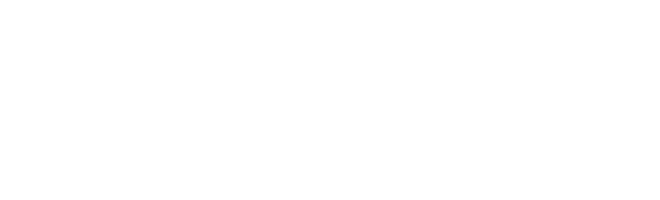
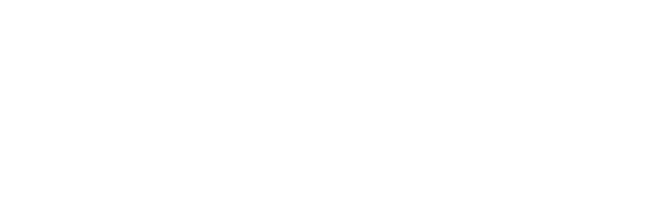
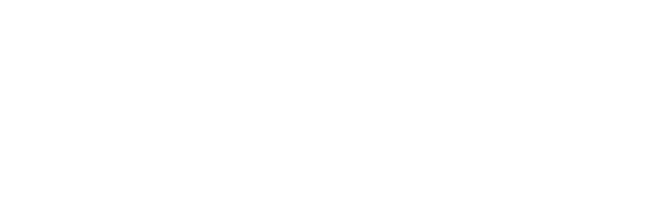
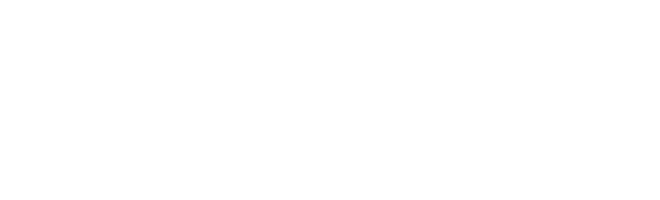
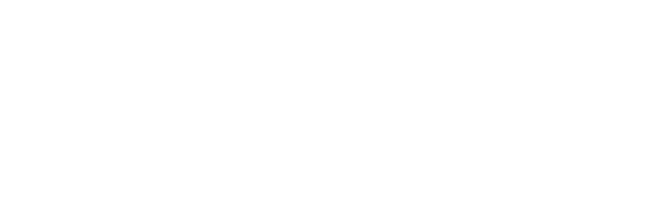
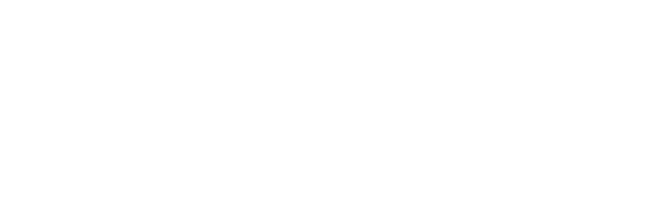
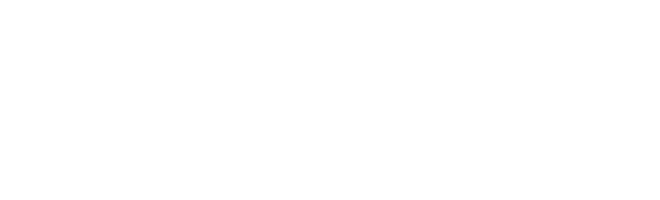
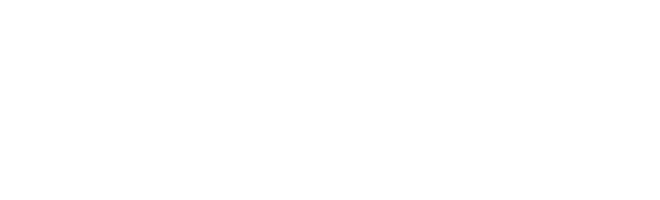
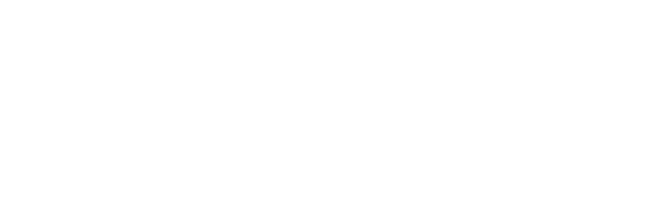
.
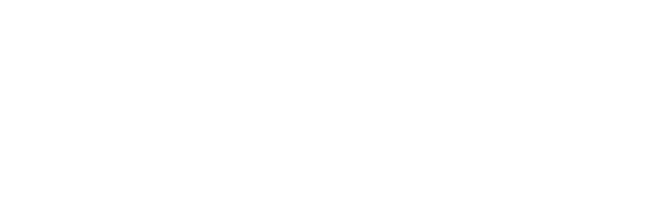
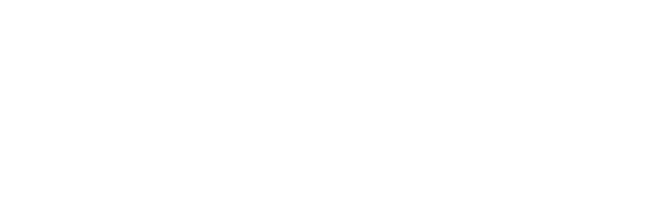
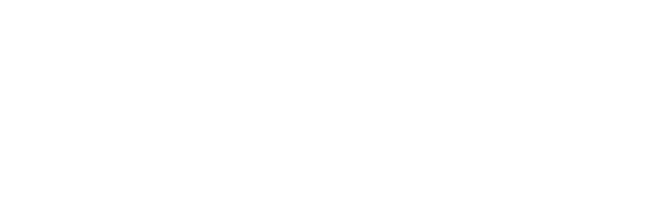
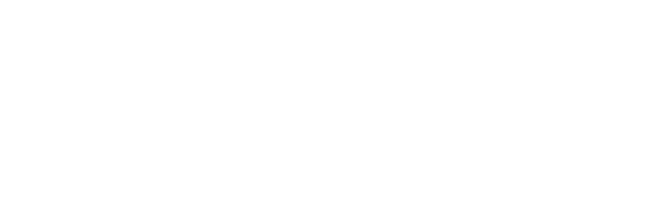
Евгений Михнов-Войтенко
1892 - 1980Ленинградский художник-абстракционист, представитель “неофици-ального искусства”. Создатель авторских техник живописи (“тюбик” — выдавливание краски из тюбика непосредственно на холст; живопись нитроэмалью по стеклу). Разрабатывал спонтанный метод живописи. Излюбленный прием — использование шпателя и мастихина для создания рельефных композиций на холсте. Работал как художник-монументалист и оформитель интерьеров. В 1959-1988, числясь в штате Комбината живописно-оформительского искусства (КЖОИ) Художест-венного фонда, выполнил настенные панно для интерьеров ресторана “Москва” в Ленинграде.
Работы художника хранятся в Государственном Русском музее, в собрании Нового музея в Санкт-Петербурге, а также в зарубежных коллекциях.
1924 - 2004
Роджер-Эдгар Жилле родился в 1924 году в Париже. С 1939 по 1943 год он обучался гравировке медалей в École Boulle , а также, чтобы избежать обязательной трудовой службы , посещал курсы Мориса Брианшона в Высшей школе декоративного искусства. Затем он преподавал в Юлианской академии с 1946 по 1948 год , где познакомился с Терезой, которая стала его женой.
Изначально работает в абстрактной эстетике, принимает участие в нескольких выставках, организованных критиками Мишелем Тапье и Шарлем Этьеном. Затем он был связан с европейской лирической абстракцией, также называемой неформальным искусством или Nouvelle École de Paris, с такими художниками, как Жорж Матье, Пьер Алешинский, Жан Мессажье, Серж Поляков и др.
Он представил свою первую персональную выставку в 1953 году в галерее Крейвен в Париже. В 1954 году он был награжден премией Фенеона , затем, после выставки в Galerie de France , он получил премию Катервуд и уехал в Соединенные Штаты . По возвращении он выставлялся в галерее Ариэль. В 1957 году он присоединился к Galerie de France вместе с другими молодыми художниками ( Алешинский , Леви, Марьян ), и в 1959, 1961 и 1963 годах было 3 персональных выставки. Отойдя от абстракции, он покинул Galerie de France и вернулся в галерею Ариэль из его друг Жан Поллак. Это четко подтверждает линию его галереи, особенно с выставкой «15 художников моего поколения» (1964).
В середине 1960-х Роджер-Эдгар Жилле обратился к фигуратуре, и человечество стало центральным предметом его творчества. Его постановка четко представлена в виде серии: Les Poux , Les Juges , Les Bigotes , Marilyn , Les Musiciens , Les Mutants. Кроме того, он не стесняется цитировать темы из религиозной живописи, такие как Тайная вечеря или Распятие. Он также обращается с ландшафтом своими городами и морскими пехотинцами .
Эстетически Жилле имеет сходство с Гойей и фламандцем Джеймсом Энсором. Его можно связать с новой образностью и с течением экспрессионизма.
Он входил в отборочную комиссию Салона де Май, с которым он отправился на Кубу в 1967 году и участвовал в создании коллективной фрески в Гаване .
В 1970-х он жил недалеко от Сенса в Йонне с женой и четырьмя детьми. Затем он разделит свою жизнь между Парижем и Сен-Сюлиак , недалеко от Сен-Мало. Он является членом почетного комитета Международного Дома поэтов и писателей в Сен-Мало.
Жилле перестал рисовать в 1998 году . Он умер от рака в 2004 году в Сен-Сюлиаке. Его прах развеян в Париже в сувенирном саду кладбища Пер-Лашез.
Леон Зак / Léon Zack (Лев Васильевич Зак)
1892 - 1980Художник «русского зарубежья», скульптор, сценограф, поэт, представитель Парижской школы.
В 1911 году окончил московскую гимназию при Лазаревском институте восточных языков. В 1911–1916 учился на романо-германском отделении историко-филологического факультета Московского университета. Первые уроки живописи брал у художника Александра Якимченко, позже посещал художественные студии Фёдора Рерберга и Ильи Машкова. В 1910-е участвовал в выставках Московского товарищества художников и «Мира искусства». В то же время начинается период футуризма в творчестве Леона Зака. Он становится членом литературной группы эгофутуристов «Мезонин поэзии». Оформляет обложки поэтических сборников членов группы, а также коллективных альманахов «Засахаре кры», «Вернисаж», «Пир во время чумы».
После революции с женой и дочерью эмигрировал через Крым и Турцию в Европу. С 1920 по 1921 жил во Флоренции, затем с 1922 по 1924 — в Берлине, где работал сценографом, оформлял книги. В 1924 году переехал в Париж, где участвовал в Осеннем салоне и салоне Независимых; выставлялся в галереях Парижа, Лондона, Брюсселя, Праги. Одновременно продолжал иллюстрировать книги, создавал рисунки для тканей, делал статуэтки из стекла. В 1930–1940-е неоднократно возвращался к работе в театре, оформлял балеты. В 1938 году получил французское гражданство.
В середине 1940-х начинает уходить от фигуративности к экспрессионизму, а затем к абстракционизму. В 1948 году на персональной выставке в парижской галерее des Garets впервые показал абстрактно-геометрические композиции, которые были и остаются крайне популярными у коллекционеров. В 1950-е произвел художественные и реставрационные работы в Нотр-Дам-де-Повр в Исси-ле-Мулино, Пти-Фрер-де-Повр, в соборах Сакре-Кёр и св. Жанны д’Ар в Париже и многих других. В 1970 году получил приз Президента Франции на биеннале в Ментоне. В 1981 году прошла мемориальная выставка в рамках Осеннего салона.
Работы Леона Зака хранятся в Музее современного искусства города Парижа, Британской галерее Тейт (Лондон), Королевском музее Брюсселя, Институте Карнеги (Питтсбург), в музеях Нанта, Антверпена, Венеции и многих других.
*1940
Юрий Купер — один из самых известных на Западе русских художников. График, декоратор, сценограф, представитель младшего поколения художников-нонконформистов, эмигрировавший из СССР в 1972 году. Автор декораций и костюмов к операм: «Борис Годунов» в Большом театре в Москве (2007, реж. Александр Сокуров), «Отелло» в Перми (2008, реж. Владимир Петров), «Кармен» в Ростове (2008, реж. Юрий Лаптев) и другим постановкам. Автор пьесы “Двенадцать картин из жизни художника” (поставлена в МХТ им. Чехова) и романа “Сфумато” (2015). Живет в Лондоне, Париже, Нью-Йорке.
Работы Юрия Купера хранятся в Государственной Третьяковской галерее, в Музее Метрополитен в Нью-Йорке, в коллекциях Министерства культуры Франции, Библиотеки конгресса США и др.
1921 - 2012
Французский художник польского происхождения. Изучал философию в университете Лилля, где одним из его профессоров был философ и писатель Жан Гренье, в своё время оказавший значительное влияние на молодого Альбера Камю. В начале 40-х годов, ещё студентом, Кийно начал создавать свои первые произведения. Позже он посещал мастер-класс по скульптуре Жермен Ришье, известной своими «гибридами» человека и животного. Даже переехав в Париж в конце 50-х, Кийно сохранил крепкую дружбу с Ришье.
В 1950 году Кийно создал группу «Cadran Group» (вместе с Полем Гаем), а в 1954 году прошла его первая перосональная выставка. В том же году он решил полностью посвятить себя живописи. Тем не менее, следующий год для художника стал кризисным. Кийно сжег все свои картины (около 250 работ) и переселился в Антиб (Франция), где в 1957 году Ромуальд Дор де ла Сушер, друг Николя де Сталя и Пабло Пикассо, выступил с инициативой организовать первую большую выставку Кийно в Музее Антиба (Musée d’Antibes).
В 1958 году Ладислас Кийно переехал в Париж и был принят в комитет «Salon de Mai», коллектив французских художников, встречавшихся в кафе на улице Дофин с 1943 года, со времён оккупации. Он регулярно участвовал в крупных парижских салонах, таких как «Новые реалии», «Сравнения», «Отдел молодежи» и «Сегодняшнее сакральное искусство». Примерно в это же время Кийно начал свою многолетнюю переписку с младшим братом скульптора Камиля Клоделя, поэтом, драматургом и дипломатом Полем Клоделем.
В Париже Кийно изобрел технику фруассажа (froissage) — работу с мятой бумагой. В этот же период художник начал экспериментировать с красками в балончиках с распылителем, создавая таким образом синтез между традиционной техникой живописи и современными «промышленными» нововведениями. Благодаря использованию баллончиков он стал известен как один из «духовных отцов» французского уличного искусства.
Хотя Кийно больше склонялся к абстракции, он никогда не переставал исследовать разницу между фигуративным и абстрактным искусством, ища все средства, чтобы преодолеть разрыв между ними. Это исследование привело Кийно к созданию собственной художественной вселенной, собственной мифологии. В этот период Кийно искал вдохновение в многочисленных путешествиях: в Китай, на Маркизские острова, на Туамоту и остров Пасхи. В 1980 году на Венецианской биеннале он выставил 30 монументальных полотен в узнаваемой «мятой» технике под общим названием «Театр Неруды».
1888 - 1975
Французский живописец, график и поэт русского происхождения, в разные периоды своей жизни увлекавшийся футуризмом, кубизмом, дадаизмом и абстракционизмом.
Детство провел в Бугуруслане. В октябре 1909-го переехал в Москву, где занимался в частных студиях Ильи Машкова и Константина Юона. В 1912 г. году дезертировал со службы в армии и переехал в Париж, где начал заниматься живописью. Посещал Русскую академию Марии Васильевой и академию Ла Палетт, учился у Анри Ле Фоконье, Жана Метценже и Андре де Сегонзака. В 1913–1914 гг. показал первые кубистские опыты в Салоне Независимых.
В Париже примкнул к группе «Дада», участвовал во многих манифестациях дадаизма. В 1921 году выставлялся в Салоне Независимых, на групповой выставке дадаистов в галерее Montaigne и на Выставке русского искусства в галерее Whitechapel в Лондоне.
В середине 1940-х перешел к абстрактно-геометрической живописи. Часто обращался к теме воды и музыки.
В 1960 году переехал в Ванв. Его персональные выставки проходили в Париже, Нью-Йорке, Милане, Дюссельдорфе, Сент-Этьене, Женеве, Люксембурге, Реймсе, Каннах и др. В 1971 году состоялась ретроспектива в Национальном музее современного искусства в Париже, после которой пришло признание, а большинство картин было приобретено коллекционерами и музеями.
В 1976 году мемориальные выставки были показаны в галереях C. Ratié и de Seine, в Национальном музее современного искусства в Париже. В 2006 году выставка работ художника была организована Русским музеем и ГМИИ им. А. С. Пушкина.
Произведения Сергея Шаршуна находятся в собраниях крупнейших музеев современного искусства Европы и США, включая Центр Жоржа Помпиду (Париж), Музей современного искусства метрополии Лилля, Государственную Третьяковскую галерею (Москва).
1931 - 2003
Cоветский и российский художник-нонконформист, работавший в манере, близкой к абстрактному экспрессионизму.
Имя «Марлен», вдохновленное революцией (Марлен = Маркс + Ленин) получил от отца, шляпника по профессии. Отец хотел, чтобы сын стал художником, поэтому отдал его в изостудию «Мосфильма». Позже Марлен учился в студии Александра Глускина, Элия Белютина и доме культуры в Сокольниках, где преподавал Александр Куприн, в прошлом участник объединения «Бубновый валет».
Сильное влияние на Шпиндлера оказал Михаил Шварцман — живописец, график, монументалист, изобретатель художественного направления «иератизм». Шпиндлер и Шварцман познакомились в электричке. По рекомендации Шварцмана Шпиндлер работал художником-оформителем на Комбинате промышленной графики — важнейшем советском бюро графического дизайна. Оба занимались возрождением «иконности» в искусстве.
Еще в молодости Шпиндлер изобрел собственный знак-инициал — букву «Ш» с тремя поперечными перекладинами («три креста»). Существует множество интерпретаций этого символа: символ счастья, символ семьи, символ Троицы. Знак оказался символом судьбы Шпиндлера и в том, что именно 3 раза художник попадал в места лишения свободы (почти 15 лет, в общей сложности, он провёл в лагерях и ссылках).
Шпиндлер писал свои картины на мешковине, сам замешивал для них краски — перетирал минералы с яичным желтком, как делали в старину иконописцы.
В 1962 г. участвовал в выставке художников студии Белютина на Большой Коммунистической улице с участием Э. Неизвестного, Ю. Соболева-Нолева, Ю. Соостера, В. Янкилевского (Москва). В 1974 году был участником выставки на Большой Грузинской, в 1975 г. — в Доме культуры ВДНХ.
С 1980-х был участником многих выставок на родине и за рубежом: «Графика московских художников» (ЦДХ, Москва, 1988), «Сокровища в грязи» (Художественный музей Тампере, Финляндия, 1990), «Другое искусство» (Государственная Третьяковская галерея, 1990), «Постмодернизм и национальные традиции» (Государственная Третьяковская галерея, 1993), «Нонконформисты — второй русский авангард 1955–1988. Из коллекции Якоба и Кенды Бар-Гер» (Государственная Третьяковская галерея, 1996) и др. В 1990-х состоялось несколько персональных выставок художника в Центре современного искусства (1993, 1994), в Международной федерации художников (1994).
В 1996 году прошла персональная выставка Марлена Шпиндлера в Третьяковской галерее.
В 2000 вышел документальный фильм о художнике «Марлен Шпиндлер».
Работы мастера хранятся в коллекциях Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, в галереях и частных собраниях в России, Европе и Америке.
1915 - 2005
Немецкий художник, важнейший представитель германской абстрактной живописи 1950-х — 60-х годов. Родился в западных польских землях, которые в то время входили в состав Германии, с 1922 года жил в Берлине. В 1934-39 гг. учился в Высшей школе художественного образования (Hochschule für Kunsterziehung) в Берлине и Академии художеств (Kunstakademie) в Дюссельдорфе. С 1939 до 1945 г. воевал.
В 1947 г. отец художника, судья по профессии, был назначен в Высший суд земли (Oberlandesgericht) во Франкфурте-на-Майне. Бернард Шульце поселился с отцом в этом городе. В это время он часто бывает в Париже на выставках художников-информалистов и в 1951 году сам начинает писать абстрактные картины.
В декабре 1952 года во Франкфурте прошла знаменитая выставка группы «Квадрига». В группу входили четыре художника-абстракциониста — Бернард Шульце, Карл Отто Гётц, Отто Грейс и Хайнц Крёйц. Это была первая авангардная художественная группировка в Германии после долгого засилья нацистского «реализма».
В 1955 г. Шульце женился на художнице Урсуле Блюм. В 1968 г. они переехали в Кёльн.
С 1955 г. Бернард Шульце создавал рельефную живопись, приклеивая к холсту различные объекты, с 1957 г. «табускрипты» — работы в смешанной технике, с 1961 г. Migofs — фигуративные скульптуры из подручных материалов, изображающие формы жизни, которых нет в природе (само это слово изобретено художником).
В 1966 г. получил премию Вильгельма Лота от города Дармштадта. В 1972 г. избран в члены берлинской Академии художеств. В 1981 г. провозглашён титулярным профессором в земле Северный Рейн-Вестфалия. В 1984 г. Бернарду Шульце присудили премию Großer Hessischer Kulturpreis, 1986 — медаль Ловиса Коринта, в 1989 — почётный орден земли Северный Рейн-Вестфалия, в 1990 — медаль Стефана Лохнера, в 1998 — крест за заслуги перед ФРГ, в 2002 — премию Binding-Kulturpreis.
1980-е — 1990-е годы — время больших ретроспектив художника. В те же годы он энергично работает, создавая крупные, монументальные полотна. Он также известен как выдающийся график.
Среди музеев, в коллекциях которых есть работы Бернарда Шульце, — музей Людвига в Кёльне, Städel Museum в Франкфурте-на-Майне, MUMOK в Вене, музей Бойманса — ван Бёнингена в Роттердаме, Центр Помпиду в Париже, галерея Тейт в Лондоне, MoMA в Нью-Йорке, Гарвардский художественный музей. Его картинами украшена столовая виллы Хаммершмидт в Бонне (резиденции президента ФРГ до середины 1990-х годов).
1920 - 1999
Выдающийся французский художник-абстракционист.
Родился в Париже. В 1944 окончил Ecole des Travaux Publics (Париж) со степенью бакалавра, по математической специальности. С 1945 года занимался живописью. После срочной службы в армии (1945-46) твёрдо решил посвятить себя искусству и занялся самообразованием. Он посещал музеи, ателье художников на Монпарнасе (в частности, был у Отона Фриеза, Осипа Задкина). На него произвела большое впечатление живопись Жака Вийона, Анри Матисса и Жоржа Руо, чуть позже — Робера Делоне и Фернана Леже.
Благодаря своим русским друзьям Миотт становится ценителем балета, ездит с ними на представления в Лондон и Монте-Карло. Позже он сделает много декораций и костюмов для театра.
В 1948 г. путешествует по Италии. Помимо музейных впечатлений, он обзаводится знакомствами среди молодых итальянских художников и архитекторов (в частности, сближается с художниками из римской Gruppo Forma 1 Пьеро Дорацио, Мино Гверрини и Акилле Перилли). С 1950 г. работает в своей мастерской в Медоне. В этом же году но впервые обращается к абстрактной живописи. Знакомится с Жаном Арпом и Джино Северини (который в это время тоже обратился к абстракционизму). В 1952 г. знакомится с художником Сэмом Фрэнсисом и посещает его мастерскую в Виль-д’Авре.
В 1952 г. Жан Миотт впервые выставляется на Salon des Réalités Nouvelles. В 1953 г. его работу приобретает Музей современного искусства города Парижа. В том же году начинает работать в Булони. Его булонскую мастерскую посещает Анри Гётц с учениками. В 1954 г. в галерее Люсьена Дюрана (Париж) прошла первая персональная выставка Миотта.
В середине 1950-х гг. сближается с русскими художниками Второй парижской школы — Ланским, Поляковым, Димитриенко. Мишель Сёфор включил его в свой «Словарь абстрактной живописи» (1957). На выставке «50 лет абстрактной живописи» в галерее Крёза, посвящённой выходу этой книги, также была показана живопись Миотта. В 1958 г. представителем Жана Миотта становится галерея Жака Дюбурга.
В 1961 г. Жан Миотт получает грант Фонда Форда, который позволил ему шесть месяцев жить в Нью-Йорке. Там он позакомился с художниками Александером Колдером, Робертом Мазервеллом, Жаком Липшицем и Марком Ротко. Его работы приобретают нью-йоркская галерея Кнёдлера, дирижёр Метрополитен-опера Владимир Гольшман и виолончелист Альфред Уолленстайн.
В 60-е годы в галереях и музеях Голландии и Дании проходит несколько персональных выставок Миотта. В 1966 г. Георг Трёллер снял для австрийского телевидения первый документальный фильм о нём. Принимал деятельное участие в событиях мая 1968 г. в Париже.
В 1971 г. избран в члены жюри Salon des Réalités Nouvelles. В 1972 г. открыл студию в в Гамбурге. В 1975 г. вышла первая монография о Миотте с текстами Хосе Аугусто Франса и Кастора Зайбеля, в 1976 — вторая, написанная американским писателем Честером Хаймсом (переиздана в 1987 г.).
В 1976 г. переезжает в Нью-Йорк, снимает мастерскую в СоХо и заключает договор о сотрудничестве с галереей Марты Джексон. Владимир Бибич снимает о нём документальный фильм для Юнеско. В 1979 г. выставка Миотта проходит в Пекине. Он — первый художник Запада, чьи произведения были показаны в Китае после периода «культурной революции».
В 1981 г. из машины Жана Миотта похитили 12 его работ. После этого происшествия он глубоко подавлен и два года почти не пишет новые картины. Однако, продолжает путешествовать с выставками: в 1982 г. он посещает сначала Японию (Нару и Киото), затем Гонконг. В 1983 г. Жерар Ланжвин снимает новый фильм о Миотте, который поканывают на его новой большой выставке в Сингапуре.
С конца 1950-х до конца 1990-х Жан Миотт участвовал в сотнях выставок, как групповых, так и персональных, во множестве стран от Финляндии до Тайваня. Одних ретроспектив было восемнадцать. О Миотте сняли восемь фильмов и написали одиннадцать монографий (автор одной из них, 1998 г., — Карл Рурберг, бывший директор музея Людвига в Кёльне).
С начала 1970-х годов Миотт отходит от масляной живописи, всё чаще предпочитая акриловые краски. Кроме живописи, он занимался литографией, издавал малотиражные livres d’artiste (в частности, с Мишелем Бутором в 1985 и 1988 гг., с Андре Верде в 1987, Кеннетом Уайтом в 1994 г.), по его эскизам делали ковры. В 1991 году он принял участие в работе 55 художников из 23 стран над альбомом ЮНЕСКО, посвящённым Декларации прав человека.
Его работы находятся в MoMA, музее Купер-Хьюитт, музее Соломона Гуггенхайма и Художественном музее Челси в Нью-Йорке, в Музее современного искусства города Парижа, в коллекции Министерства культуры Франции, Национальной библиотеке Франции, французском Национальном фонде современного искусства, Опере Бастилии в Париже, в музее Людвига в Кёльне, Музее современного искусства в Рио-де-Жанейро, Национальном музее Сингапура, Национальном музее Бангладеш в Дакке, Тайванском художественном музее в Тайчуне, музее университета Брандейса, США, Художественном музее Экланда в Чепел Хилл, США, SMPK, Kupferstichkabinett (Берлин), Культурном центре Куаутемока (Мексика), в музеях Сен-Омера, Дюнкерка, Рокбрюн-Кап-Мартен, Шатору, Берк-сюр-Мер, Марк-ан-Барёль, Мюххена, Саарбрюкена, Дортмунда, Гамбурга, Вальядолида и Вильяфамеса (Испания),Мааслуиса (Нидерланды), Монте-Карло, Копенгагена, Бейрута.
1896 - 1986
Один из первых и главных художников французской лирической абстракции.
Родился в Швейцарии в семье антиквара. Провёл детство в Нёвшателе. В возрасте 20 лет поступил в Национальную школу декоративных искусств (École nationale des arts décoratifs) в Париже, в 1918 г. перешёл в Ecole Nationale des Beaux-Arts (также в Париже), где учился у Фернана Кормона, патриарха французской академической живописи, учителя Ван Гога и Тулуз-Лотрека. С 1922 г. постоянно живёт в Париже. В 1926 г. впервые выставился на Осеннем салоне.
20-е годы для Жерара Шнайдера — время долгого поиска себя. Он работает реставратором живописи, изучает историю искусств, экспериментирует с техниками. Он также писал стихи и входил в литературную группировку сюрреалистов. С 1932 г. под влиянием Кандинского и сюрреалистов Шнайдер постепенно отходит от изобразительности. Свою живопись он начинает определять как лирическую абстракцию. В 1936 г. выставил на Салоне сверхнезависимых пять своих работ, в 1937 — одну, в 1938 — три, абстрактные, с одинаковыми названиями «Композиция».
Во время войны Жерар Шнайдер жил в оккупированном Париже. Он продолжал писать абстрактные картины, которым с 1945 года даёт новые названия: Opus с порядковым номером. Одна из последних его работ, названных «Композиция», в 1945 г. стала одним из первых приобретений Национального музея современного искусства.
В 1946 г. выставился на первом Salon des réalités nouvelles — главной парижской периодической выставке абстрактного искусства (Шнайдер вновь участвовал в ней в 1949, 1956 и 1958 гг.). В 1947 г. работы Шнайдера были показаны на групповой выставке «Абстрактная живопись» в парижской галерее Дениз Рене. В том же году в галерее Лидии Конти прошла его персональная выставка.
В 1948 г. получил французское гражданство.
50-е годы — время наибольшей славы Жерара Шнайдера. Вместе со своими друзьями, Хансом Хартунгом и Пьером Сулажем, он считается важнейшим художником-абстракционистом. Его картины включают почти во все обзорные выставки француского искусства, которыых в 50-е годы было множество в разных странах. Бывало, что одновременно он участвовал в десяти выставках. Вот некоторые из них, самые важные.
С 1949 года Жерар Шнайдер постоянно выставлялся на Salon de Mai, а в 1956 г. избран в его оргкомитет. Участвовал в передвижной выставке Wanderausstellung Französischer Abstrakter Malerei, проходившей в Западной Германии в 1948-49 гг., выставился в 1949 и 1951 г. в галерее Бетти Парсонс в США, затем в выставке Advancing French Art в разных городах США. В 1955 — 1961 знаменитая галерее Сэмюэла Кутца в Нью-Йорке была эксклюзивным представителем Жерара Шнайдера в США. В 1950 Opus 445 покупает галерея Филлипс, в 1955 г. Opus 95 — MoMA.
В 1953 г. прошла первая ретроспектива Жерара Шнайдера в Брюсселе. В 1962 г. — вторая в Kunstverein в Дюссельдорфе. Он выставлялся на Венецианской биеннале в 1948, 1954 и 1966 г., на биеннале в Сан-Паулу в 1951, 1953 и 1961 г., на Документе в Касселе в 1955 и 1959. Эспозиция во французском павильоне на Венецианской биеннале 1966 г. была его персональной выставкой. В 1970 г. прошла новая ретроспектива Шнайдера в Городской галерее современного искусства в Турине, а затем в павильоне «Земля людей» в Монреале. Предисловие к её каталогу написал Эжен Ионеско.
В 1950 г., когда Жерар Шнайдер участвовал в коллективной выставке в Японии, он получил премию губернатора Токио. В 1957 г. — Prix Lissone. В 1975 г. — Grand Prix National des Arts.
Абстрактная живопись Жерара Шнайдера эмоциональная, интуитивная. Он вообще рассматривал её как отражение внутреннего мира художника. Шнайдер был тонким знатоком музыки и находил в живописи много общего с её строем.
Работы Жерара Шнайдера хранятся в Центре Помпиду и Музее современного искусства города Парижа, MoMA, музее Людвига в Кёльне, Галереи современного искусства в Риме, коллекции Филлипс в Вашингтоне, Музее изящных искусств в Монреале, Музее современного искусства в Рио-де-Жанейро, Музее современного искусства в Брюсселе, Художественном музее в Нанте, в музее Финикса, Йельском университете в Нью-Хэвене, Принстонском университете и Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, Walker Art Center в Миннеаполисе, музее Олбрайта-Нокса в Баффало, Fine Art Center в Колорадо-Спрингз, музее Джакарты, Художественном музее в Сеуле, Государственном музее в Камакуре, фонде Сони Хени и Нильса Онстада в Осло, Городской галерее современного искусства в Турине, музее Ворчестера (США), в Kunsthaus в Цюрихе и Музее искусства и истории в Нёвшателе. Мозаика Жерара Шнайдера находится в здании Министерства почты и телекоммуникаций в Париже.
Александр Гарбель (Alexandre Garbell)
1903 - 1970
Французский художник, представитель Парижской школы.
Родился в Риге. Начал рисовать в возрасте тринадцати лет. После учебы в Москве переехал с семьей в Германию и начал посещать Гейдельбергскую академию. В 1923 году он прибыл в Париж и стал учеником в Академии Рансона, где он учился у Роже Биссьера — представителя лирической абстракции. Там же Гарбель познакомился с Альфредом Маннесье, Франсисом Грюбером и др. Так он стал частью того, что называется Парижской школой. Довольно быстро Гарбель вырабатывает собственную стилистику.
С 1928 года работы Гарбеля регулярно экспонируются в Париже, как на персональных, так и на групповых выставках.
Во время Второй мировой войны, как многие другие художники (Марсель Ривье, Андре Ланской), Гарбель нашел убежище в Мирманде, где Андре Лот (художник, скульптор, педагог, теоретик искусства) открыл академию. Работая преподавалетем в Академии Андре Лота, Гарбель оказывает влияние на новое поколение художников.
В 1946 году Александр Гарбель вернулся в Париж, где подружился с Полом Акерманом и выставлялся в больших галереях (Delpierre, Galerie du Siècle, Pierre Loeb). Он регулярно участвовал в важных выставках во Франции: Salon des overindépendants, Salon de mai ( 1950, 1954 — 1961); Salon des realités nouvelles (1961); Salon Comparaisons (1956, 1957, 1962, 1963) и многих других. В 50-е и 60-е годы его работы показывали на выставках в Дании, Швейцарии, Англии, Италии, США. К выставке, прошедшей в Нью-Йорке в 1956 году, о Гарбеле был снят телевизионный фильм «Художник и его работы».
Большая персональная выставка «Гарбель, пятнадцать лет живописи» прошла в 1970 году в Galerie Framond в Париже. Художник умер в декабре того же года и был похоронен в Монри.
У Александра Гарбеля есть сын — Камиль Гарбель, скульптор.
В начальный период своего творчества Гарбель был увлечен абстракцией. Позже он он отошел от резкого противопоставления абстрактной и фигуративной живописи. Одними из основных источников вдохновения для него стали скалы и пляж в Мер-ле-Бен — коммуне на севере Франции.
1912 - 1997
Французский художник. Родился в Реймсе. После службы в Иностранном легионе жил в Северной Африке (в основном в Марокко). Там прошли его первые выставки: в 1935 и 1939 гг. в Мекнесе, в 1939 в Рабате.
С 1946 г. живёт во Франции. В 1950 году по совету Альбера Глейзера переезжает в Париж и под влиянием этого художника отходит от фигуративизма. В 1962 г. прошла персональная выставка Жана Майе — сначала в мастерской художника, затем в галерее l’Antipoète, находившейся неподалёку. В 1962-63 гг. он участвовал в групповых выставках вместе с Сержем Поляковым, Жаном Арпом, Куртом Зелигманом. В 1967 г. на биеннале в Анконе получил золотую медаль. После 1975 г. выставлялся на Осеннем салоне, салоне Независимых, Salon Comparaisons.
Работы художника хранятся в Парижском музее естественной истории, Fondation Maeght в Сен-Поль-де-Ванс, в музее Пфрцхайма.
1930 – 2021
Cоветская и российская художница, чьи работы отличаются четкостью контуров и лаконичностью цвета, а чередование геометрических плоскостей наделяет их ритмичностью и динамической экспрессией. В начале 1960-х вместе с Франциско Инфанте входила в состав группы художников-кинетистов «Движение».
В 1944–1945 гг. Заневская училась в художественном училище при киностудии «Мосфильм». В 1961 году после знакомства со Львом Нусбергом начала серьезно заниматься искусством. Первая жена поэта Генриха Сапгира. В середине 1970-х Заневская приняла участие в главных неофициальных выставках, включая Бульдозерную (1974), Измайловскую (1974), а также Выставку произведений московских художников, прошедшую в павильоне «Дом культуры» ВДНХ (1975). В последние десятилетия занималась иконописью. Жила в Москве.
Работы Риммы Заневской находятся в собрании Государственной Третьяковской галереи (Москва), в других государственных и частных коллекциях.
1906 – 1997
Один из главных художников второй половины XX века. Важнейший представитель и теоретик оп-арта и кинетического искусства.
Виктор (венг. Дьёзё) Вазарели родился в городе Печ в Венгрии. Учился на медика в университете Лоранда Этвёша в Будапеште. В 1927 г., отказавшись от карьеры врача, поступил в частную художественную академию Подолини и Фолкмана. Через год поступил в «Мюхей» — частную школу авангардного художника Шандора Бортника, бывшего преподавателя Баухауза, недавно вернувшегося в Будапешт.
В 1930 г. Виктор Вазарели женился на Кларе Шпиннер, другой ученице Бортника, и вместе с ней переехал в Париж. Во Франции работал графическим дизайнером, делал рекламные плакаты для агентств Havas, Draeger и Devambez. Он планировал развивать методику художественного образования Шандора Бортника и открыть собственную школу, но так и не открыл её. В 30-е Вазарели создвал графические серии с изображениями зебр, тигров, арлекинов, в которых часто прибегает к оптическим эффектам.
В 1942-44 гг. жил в Сен-Сере. После войны его мастерская находилась в Аркёе, пригороде Парижа. В 1961 г. переехал в Анне-сюр-Марн.
Лишь с 1944 года Вазарели систематически занимается живописью. С этого же года он регулярно выставляется в парижской галерее Дениз Рене. Первое время он хаотически осваивал опыт авангардной живописи того времени, подражая то сюрреалистам, то кубистам, то экспрессионистам. С 1947 года начинает писать абстрактные картины. Тогда же он начинает называть своё искусство оптическим).
С конца 1940-х Вазарели создаёт серии работ, в каждой из которых последовательно разрабатывет один пластический мотив: «Данфер» (по станции метро Данфер-Рошро в Париже, основой мотива была мозаика облицовки на этой станции), «Бель-Иль» с мотивом гальки с бель-ильского пляжа, «Горд/Кристалл» — с кубическими структурами, напоминающими дома южнофранцузского города Горда (с 1948 г. Вазарели проводил там лето). Были и другие циклы — в частности, «Посвящение Малевичу».
С 1951 г. занимается кинетическим искусством. Вместе с Марселем Дюшаном, Александером Колдером, Мэн Рэем, Хесусом Рафаэлем Сото и Жаном Тенгели он участвует в большой выставке Le Mouvement («Движение») в галерее Дениз Рене в Париже (1955). К этой выставке было приурочено издание «Жёлтого манифеста» (Le Manifeste Jaune), который Виктор Вазарели написал вместе с Понтусом Хюльтеном и Роже Бордье. Благодаря этому манифесту и некоторым другим, написанным позже, Вазарели стал главным теоретиком и пропагандистом оптического и кинетического искусства.
Работы Виктора Вазарели этого периода чёрно-белые. Лишь в 1960 г. в них возвращается цвета.
Помимо ежегодных выставок в галерее Дениз Рене и зарубежных выставок, которые организовывала чаще всего эта же галерея, Вазарели регулярно показывал свои работы на Салоне новых реальностей, Салоне Сверхнезависисых и Майском салоне. С галереей Рене с 1958 г. сотрудничал также Ивараль, сын Виктора Вазарели.
Идеи, высказанные в манифестах Вазарели (в частности, о том, что произведение искусства существует лишь в воображении зрителя, который в различных ситуациях по-разному воспринимает один и тот же набор оптических сигналов; поэтому зритель, а не художник — его подлинный автор), вдохновили, среди прочих, художников из Groupe de Recherche d’Art Visuel (GRAV, активна в 1960-68 гг.). Следуя мысли Вазарели о том, что концепция авторства устарела, они работали коллективно и не афишировали свои имена.
Сам Вазарели пошёл по другому пути. Подобно Малевичу, Мондриану и художникам Баухауза, которые рассматривали абстрактную живопись как систематическую, почти научную работу по выработке универсальных композиционных принципов, в соответствии с которыми может и должна быть заново сконструирована вся предметная среда, окружающая человека; с конца 50-х годов он разрабатывал собственную версию всеобщего пластического языка (или пластического алфавита, как он сам его называл).
Вазарели ограничивает и упорядочивает набор элементов, с которыми работает: три круга, два квадрата, три ромба, два длинных прямоугольника, один треугольник и т. д.; а также по два-три оттенка спектральных и ахроматических цветов. Он постепенно расширял свой «словарь», нумеруя каждый элемент. Производство «произведений искусства» теоретически сводилось к свободным комбинациям ограниченного числа элементов; фактически же эта система так обширна, что оставляет бесконечный простор для творчества. Итог этой работы — альбом 1963 г. «Планетарный фольклор» (Folklore planétaire). Вазарели полагал, что выработанный им набор правил, ясный, последовательный, научный, должен стать новым универсальным языком дизайна и архитектуры.
Поэтому он часто сотрудничал с архитекторами. Первая такая совместная работа — монументальное панно «Посвящение Малевичу» в университетском городке Каракаса, 1954 (архитектор Карлос Рауль Вийянуэва). Кроме того, Вазарели участвовал в оформлении вокзала Мэн-Монпарнас в Париже, жилого дома R.T.L. в Париже, Филологического факультета в Монпелье, Музея Иерусалима, французского павильона на Всемирной выставке 1967 г. в Монреале, катка в Гренобле. Разработал орнамент для сервиза Suomi Тимо Сарпаневы для Rosenthal (1976).
В 1964 — 1976 гг. работал над серией «Hommage à l’Hexagone». Следующий период он называл «гештальт-периодом».
В 1970 г. в Горде открылся музей Виктора Вазарели (закрылся в 1997 г.) В 1975 г. в Экс-ан-Прованс открылся второй и главный музей Вазарели в здании, спроектированном при участии самого художника. Этот музей — один из больших культурных проектов Жоржа Помпиду, который, однако, сам не дожил до его открытия. В 1976 г. Виктор Вазарели установил в центре Жоржа Помпиду в Париже большой кинетический объект «Жорж Помпиду». Тогда же, в 1976-м, в Пече, родном городе художника, открылся третий его музей. В 1987-м — четвёртый, в Будапеште.
Искусство Виктора Вазарели отмечено многими премиями. В 1955 г., после публикации Жёлтого манифеста, он получил премию Критиков в Брюсселе, Золотую медаль на Триеннале в Милане, международные премии в Валенсии и Венесуэле. В 1964 г. — премию Гуггенхайма. В 1965 — Гран-при на VI Международной графической выставке в Любляне, Гран-при VIII Биеннале Сан-Паулу, Золотую медаль Общества содействия искусству и индустрии (Франция). В 1966 г. — премию I Графической биеннале в Кракове и Золотую медаль на II международном симпозиуме эстетики в Римини. В 1967 — приз министра иностранных дел Японии на IX Токийской биеннале и премию института Карнеги. В 1968 г. — первую премию на II Графической биеннале в Кракове, в 1969 — премию «Золотая палитра» на международном Фестивале живописи, Канн-сюр-Мер.
Кавалер Ордена Искусств и Литературы при министерстве культуры Франции (1965) и Ордена Почётного легиона (1970). Профессор Высшей школы прикладного искусства в Будапеште (1969).
Работы Виктора Вазарели побывали в космосе: в 1982 г. альбом с его гравюрами взял с собой французский космонавт Жан-Луп Кретьен на борт корабля «Салют-7». Позже они были проданы на благотворительном аукционе в пользу ЮНЕСКО.
Помимо музея Фонда Виктора Вазарели в Эксе и двух его музеев в Венгрии, работы Вазарели хранятся в Центре Помпиду, музее Бойманса — ван Бёнингена в Роттердаме, Музее современного искусства (MoMA) и Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, LACMA, Музее современного искусства в Сан-Франциско, Художественном музее Хьюстона, Cranbrook Art Museum, Национальном художественном музее и Музее латиноамериканского искусства в Буэнос-Айресе, Национальном художественном музее в Рио-де-Жанейро, EMMA в Эспоо, Музее современного искусства в Антверпене, Музее Израиля в Иерусалиме и многих других.
1898 – 1979
Живописец, график, сценограф, фотограф. Родился в России в дворянской семье немецкого происхождения. Учился в мастерской Я. Ф. Ционглинского в Петербурге и несколько месяцев посещал Высшее художественное училище живописи, скульптуры и архитектуры.
В 1915 году в качестве художника и фотографа участвовал в этнографической экспедиции по русской части Центральной Азии. В 1917 году жил в Москве и работал как театральный декоратор, рисовал для газет. Увлекался фотографией. После тюремного заключения переехал в Крым.
В 1920 году эмигрировал в Константинополь, затем в Загреб, Вену, Берлин. В 1923 г. поселился в Париже. С 1927 жил на Монпарнасе, где снял небольшую мастерскую и писал виды из ее окна. Там он познакомился с Ю. П. Анненковым, И. А. Пуни, М. Э. Виейра да Силва, А. Сенешем и А. Старицкой.
После войны обратился к абстрактной живописи. С 1952 создавал картоны гобеленов для мануфактуры в Бовэ.
Выставлялся на Осеннем салоне (с 1929), Салоне Тюильри (1939), Салоне Независимых (1957). Его персональные выставки проходили в галерее Crausen в Копенгагене (1935), парижских галереях A. Poyet (1938), Rotgé (1943), Pierre (1949), Bellechasse» (1957), Le Point Cardinal (1962), галерее Knoedler в Нью-Йорке (1949), O`Hana в Лондоне (1954), а также в Стокгольме и Осло (1962). Был участником групповых выставок в галерее Beaux-arts. В 1945 — 1946 гг. участвовал в выставках русских художников, организованных комитетом «Франция–СССР» и Союзом русских патриотов.
Работы экспонировались также на выставках: «Русский взгляд» в Гейдельберге (1974), «Русские художники Парижской школы» (1961), «Снова русские» (1975) в Париже. В 1964 году был награжден орденом Искусств и словесности. В 2011 работы художника экспонировались в Москве на выставке «Арт-миссия: Возвращение на Родину».
1927 – 2019
Французский художник-абстракционист. В юности изучал живопись и скульптуру в частной мастерской в Париже.
В конце Второй мировой войны встречается с Ланца дель Васто — знаменитым сторонником концепции ненасильственного протеста, поэтом, писателем и духовной главой «Сообщества Ковчега». Клод Бельгард становится активным участником этого сообщества. Тогда же он начинает заниматься скульптурой.
Вдохновленный тестами Роршаха и живописью абстрактных экспрессионистов, Бельгард постепенно приходит к ташизму («живописи пятнами»).
С 1951 года начинается период монохромной живописи, названный «Белым периодом». Бельгард создает серию работ под названием «Ахроматизм» — текстурные монохромные абстрактные полотна. Именно в этот период Бельгард становится узнаваемым и полноправным членом сообщества послевоенных фрацузских художников. Он присоединяется к авангардной группе «Dessins», которая занимается живописью действия — художественной техникой, заключающейся в том, что вместо нанесения традиционными способами краска наливается, разбрызгивается и т.д. Позже он сближается с абстрактным экспрессионизмом. Интересно, что в 1955 году его «Белые» работы экспонировались в галерее Facchetti, той самой галерее, где впервые был представлен французской публике Джексон Поллок — самый известный представитель абстрактного экспрессионизма.
После высокой оценки критика и теоретика искусства Пьера Рестани Бельгард начинает выставляться за границей: в Германии, Бельгии, Великобритании и Италии, где его работы пользовались особенным успехом. В частности, в Милане, его работу приобрел знаменитый художник Лучо Фонтана. В этот же период его работы начали приобретать французские музеи и центры современного искусства, среди которых Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду.
В 1960-е годы Бельгард вновь вводит с свою живопись цвет. Некоторое время он проводит в Америке, участвуя в различных художественных симпозиумах, исследующих теорию цвета. В 1964 году его работы экспонируются в музее Гуггенхайм в Нью-Йорке. Возвращаясь во Францию, он продолжает изучение цвета. Здесь ему предлагают оформить палату для хромотерапии в клинике доктора А. Томатис, что было спровоцировано исследованием о влиянии цвета на психологическое состояние беспокойных пациентов. Эти исследования были опубликованы в книге «Human Nature», а символичная работа художника этого периода «History of the Eye» была приобретена Лионским музеем изящных искусств (Musée des Beaux Arts de Lyon).
Бельгард был представителем Франции на Международной биеннале в Сан-Паулу 1965 года. В том же году он был удостоен премии на биеннале в Сан-Марино, Италия. В 1971 году прошла его ретроспективная выставка в Музее современного искусства города Парижа.
В 1983 году Бельгард получил докторскую степень в Сорбонне, после чего активно выступал на различных конференциях и работал над архитектурными, музыкальными и кинематографическими проектами. В 1986 году Министерство культуры Франции наградило его Орденом Искусств и литературы.
Его работы хранятся в Музее современного искусства города Парижа, центре Жоржа Помпиду, музее Кантини в Марселе; Музее изобразительных искусств в Лилле; галерее Тейт, музее Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке; Токийском музее современного искусства и других.
1917 – 2007
Знаменитый итальянский дизайнер и архитектор, один из главных идеологов радикального дизайна, основатель дизайн-группы “Мемфис”, прогремевшей на Миланском мебельном салоне в 1981 году. Обладатель премии Compasso d’Oro 1959 за проект первого итальянского компьютера Elea 9003 для Olivetti, автор бестселлера 1960-х печатной машинки Valentine и крупнейшего аэропорта Милана — Malpensa.
1935 — 1939 — изучал архитектуру в Туринском политехническом университете
Во время Второй Мировой войны оказался в югославском концентрационном лагере в Сараево
1945 — 1946 — работал с отцом над проектами жилищного строительства в архитектурном бюро Giuseppe Pagano
1956 — поездка в Нью-Йорк для работы в студии Джорджа Нельсона, путешествие по США
1958 — становится консультантом по дизайну в компании Olivetti
1959 — получает премию Copmpasso d’Oro за дизайн компьютера Elea 9003 для Olivetti
1961 — путешествует по Индии
1964 – 1965 – создаёт печатную машинку Valentine, за которую получает награду Delta di Ore, руководит ее рекламной компанией, проводимой по всему миру.
1966 — 1967 — начинает сотрудничество с мебельной фабрикой Poltronova; создаёт большую серию керамических ваз, вдохновлённых поездкой в Индию
1967 — становится соучредителем литературного журнала Planeta Fresco совместно с Алленом Гинсбергом
1970 — читает курс лекций в Великобритании и Японии, получает степень почетной доктора архитектуры в London College of Art
1972 — сотрудничество с компанией Alessi; участвует в коллективной выставке итальянского дизайна Italy, the New Domestic Landscape в MoMA, Нью Йорк
1973 — 1975 — участвует в создании Global Tools Group, мультидисциплинарной экспериментальной программы дизайнерского образования. Программа была задумана как система лабораторий во Флоренции, Милане и Неаполе для изучения природных материалов, их свойств и направлена на создание альтернативных отношений с итальянской промышленностью
1976 — большая ретроспективная выставка Этторе Соттсасса в Берлине, Париже, Иерусалиме и Сиднее
1980 — основание компании Sottsass Associati
1981 — возникновение радикальной дизайн-группы Memphis во главе с Этторе Соттсассом, в которую входили Марко Дзанини, Альдо Чибич, Маттео Тун, Микеле де Лукки, Мартин Бедан, Широ Курамата, Массанори Умеда, Натали дю Паскье
1985 — Этторе Соттсасс покидает Memphis и возвращается к архитектурной практике и промышленному дизайну в Sottsass Associati
2000 — проектирует аэропорт Malpensa в Милане
2001 — выставка Memphis Remembered в Музее дизайна в Лондоне.
2007 — выставка Ettore Sottsass: Work in Progress в Музее дизайна в Лондоне.
2008 — 2009 — выставка Ettore Sottsass et le design italien в Центре Помпиду в Париже.
Работы Этторе Соттсасса представлены в постоянных коллекциях музеев: MoMA, Нью Йорк; Centre Pompidou в Париже; Национальный музей Стокгольма.